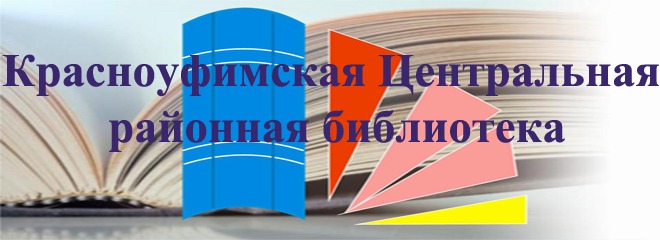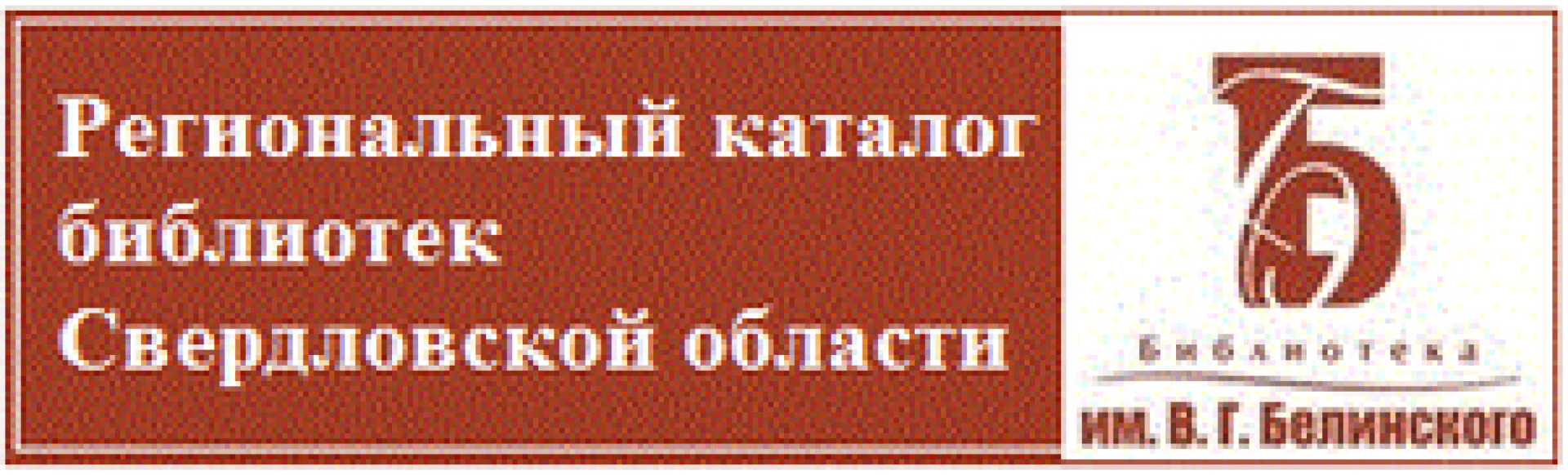Сегодня мы читаем о войне. Судьба труженицы бабы Симы

Судьба у каждого человека своя: кто-то небо «коптит», кто-то топит свою жизнь в бутылке, кто-то с детства трудится и вырастает добропорядочным, уважаемым всеми человеком, а кого-то так покрутила судьба, что вспоминаешь жизнь со слезами на глазах от боли, жалости к себе, разочарования.

Ксения Емельяновна
Живет в деревне Р.Усть-Маш малоприметная, тихая, скромная женщина баба Сима. В прошлом году ей исполнился 81 год. Смотришь порой на эту сухонькую, сутулую бабушку и думаешь: «А сколько она в своей жизни повидала? Родилась-то она еще до войны, жила при колхозах». Вот и решили мы, односельчане – Ключерова Л.С. и Плеханова Л.П. – побывать в гостях у милой старушки и узнать, какова же ее судьба, довольна ли она своей долюшкой, много ли было радости на ее жизненном пути?
А судьба у Ксении Емельяновны оказалась незавидная. Родилась она в 1928 году в деревне Шулашовка Аксинского района Башкирской АССР. Детей тогда в семьях было столько, сколько бог давал. Вот и в семье Мухачева Емельяна Федоровича и Устиньи Дмитриевны родилось 9 детишек, в том числе и Серафима. Но в голодные годы и от тяжелых болезней четверо ребят умерло. В тридцатые годы тяжело было жить всем, но особенно многодетным: чем кормить маленьких детей, во что одевать, когда у крестьян изымали не только излишки, но и необходимый для выживания хлеб. Хоть по миру иди и проси милостинку! Прослышал как-то раз Емельян Федорович, что в поселок Саргая набирают в леспромхоз людей для заготовки леса, а у него там как раз брат родной проживал. Вот и собрались они в 1933 году всей семьей в эту далекую для них Саргаю. Вещей было немного, какие у бедняка пожитки. Наняли лошадиную повозку, привязали сзади кормилицу корову, сгрузили нехитрый скарб и пешком из Башкирии пошли в Красноуфимский район. Народу тогда в Саргаю много понаехало: и из Бугалыша, из Сажино, из Манчажа, из Новой деревни, места сразу всем найти не могли, поэтому, поискав работу в Саргае, Темном логу, остановились в Барганде. Для наемных рабочих там были построены досчатые бараки, сооружения холодные, не пригодные для суровой уральской зимы: стены состояли из двух щитов, набитые между ними опилками. Вот в одном из таких бараков и поселилась семья Мухачева Емельяна Федоровича. Хоть и работал отец на заготовке леса, но для семьи в семь ртов еды не хватало, жили впроголодь. То, что немногое привезли с собой из Башкирии из одежды и утвари, мать тихонько перетаскала в соседние деревни, чтобы обменять хотя бы на картошку. Дожили до того, что нечего было постелить на пол, чтобы спать не на голом полу. Детей старались пристроить на любую работу в оплату за кусок хлеба. С семилетнего возраста маленькую Симу стали отдавать в другие семьи в няньки. Так водилась она в одной семье в Усть-Маше, но не долго: маленькая еще была, самой надо было косички заплетать, да и очень ей хотелось жить рядом с мамкой. Ревом ревела, чтоб домой обратно привезли. Потом в Саргае жила у Филипповых, где тоже помогала по хозяйству и водилась с маленькими ребятишками Юрой и Филей. В это время даже в саргаинскую школу ходила к Гусевой Марии Николаевне, училась там три года и, хоть маленько, научилась грамоте.
В это время случилась беда, от которой всем в семье стало худо: тяжело заболел единственный в семье кормилец Емельян Федорович. У него признали рак желудка и отправили в Красноуфимскую больницу. Связи с городом тогда никакой не было, и родные не знали о состоянии здоровья главы семейства. К тому же в ноябре мать Устинья Дмитриевна родила еще одного ребенка, мальчика Мишу, и проведать Емельяна Федоровича было совсем некогда. Сразу после родов, еще не окрепшая мать, пошла работать, так как дома на нее глядели пять пар голодных ребячьих глаз. Ксения Емельяновна помнит, что в то тяжелое время днями она ходила по соседним деревням собирала милостинку, а вечером бегом бежала домой кормить собранными сухарями малышей. Четыре месяца семья ничего не знала о больном отце и муже. А в Феврале месяце 1941 года в Саргаю сообщили, что еще в декабре умер Емельян Федорович от тяжелой болезни. Нужно было ехать в город хоронить его. В лютый мороз на лошади, прикрывшись лохмотьями, поехала Устинья в город. Там в катаверной нашла тело своего мужа и похоронила в общей могиле без всяких похоронных почестей.
После родов, обессиленная от работы, промерзшая до костей в период похорон, все это сказалось на здоровье Устиньи Дмитриевны, и случилась новая беда: она заболела чахоткой. Старшая дочь Нюра увезла мать в больницу в поселок Манчаж, но сама там остаться не могла, так как дома ее ждали пятилетняя Наташа и полуторагодовалый Миша, хотя иногда ходила пешком в больницу проведать маму. Симе пришлось оставить дом Филипповых: дома нужна была ее помощь. В июне месяце мать настолько ослабла, что за ней нужен был уход, и Нюра отправила младшую сестру Симу в Манчаж к матери. Долго плутала Серафима по округе: и в Юве, в Савиново, в Токарях была, да все боялась успеть до свету, поэтому основную часть пути бежала бегом. Потом добрые люди вывели на дорогу и указали правильный путь. Пришла Сима в больницу, когда было уже совсем темно. Медсестры подвели ее к матери, а там лежала совсем незнакомая для нее женщина: худая-худая, волосы острижены, щеки впали, лицо бледное. Тринадцатилетняя девочка очень испугалась, но женщины успокоили ее и убедили, что это ее родная мама, измученная болезнью. Переночевала Сима в больнице, а наутро 22 июня 1941 года ее мамы не стало. Для Серафимы это было такое горе, что она не понимала, почему кругом бегают люди, кричат, плачут, не замечают ее. Не понимала она, что со смертью матери началась страшная война. Позвонить с больничного телефона в Саргаю и сообщить о случившемся, не было возможности – телефон был постоянно занят. Симу отправили в Манчажский горком: может там ей разрешат воспользоваться связью. По счастливой случайности девочка встретила там знакомую саргаинскую девушку Зину, которая посодействовала сообщить родным о смерти Устиньи Дмитриевны. Через сутки на лошадиной повозке с гробом за телом матери приехали старший брат Петя, бабушка и дядя Федосей. На кладбище поселка Манчаж вырыли неглубокую могилу и похоронили Мухачеву Устинью Дмитриевну. Так хотела запомнить место захоронения Сима, да и бабушка очень наказывала, но короткая оказалась детская память. Навещать могилку, тогда, не было времени - началась война и думать нужно было не о мертвых, а о живых.
Жизнь итак была не из легких, а после смерти родителей она стала еще тяжелее. Пятеро детей Мухачевых осиротели. Старшего брата Петю взяли на фронт. Нюра работала в леспромхозе. Тринадцатилетняя Сима нянчила самых маленьких, а когда исполнилось ей 14 лет делала все, что заставляли. В военное время люди злые были, никакой скидки на возраст не делали, заставляли делать даже то, что посильно было взрослым. За четыре военных года чего только не переделала Сима, как только силы, смелости, упорства хватило этой хрупкой худенькой девчушке? Осенью с Мишей и Наташей собирали по полям опавшие колоски. Миша был еще маленький, поэтому его приходилось садить себе на загорки, и таскать не только мешок с собранными колосками, но еще и его. Кроме лаптей из обуви ничего не было, поэтому до первого снега ходили босиком, от этого ноги постоянно были в ссадинах и синяках.
Зимой ухаживали за коровами. Носили молоко в тяжелых бидонах в Саргаинскую столовую. Носить было тяжело, но сердобольные повара немного прикармливали сиротских ребятишек. Еще возили на санях сено. Нагрузят воз, дадут в руки вожжи, и бежишь за повозкой до самого поселка. Иногда умудрялись зацепиться за бастрыг – на ходу отдыхали от быстрого бега. Бывало, переворачивался воз посреди дороги, тогда приходилось мерзнуть и ждать помощи. Ну что могла сделать маленькая бессильная девчонка? Утирать слезы, да молить бога, чтобы не замерзнуть! Начальство иногда отправляло ребятню огребать снег от деревьев, чтобы легче лесорубам было спиливать стволы. Вверх по течению реки Уфы в те времена была выстроена биржа, куда возили лес и складывали там в кучи. Если зимой дорогу переметало, то расчищать путь отправляли опять же малолетних детей с лопатами и метлами.
Как-то весной управляющий заставил Симу и одного татарского мальчика ухаживать за коровой и быком около Еманзельги. Не только пасти их, но и доить, убирать за ними, носить молоко в столовую… Попыталась девочка отказаться от такой тяжелой работы, так ее сразу же уволили и отправили на лесозаготовки. Самой интересной работой для рано повзрослевших ребят была помощь взрослым на кирпичном заводе. Кирпичи изготовляли из глины, которую с помощью лошади мешали в большом чане. Когда раствор был готов, он поступал в формочку. Чтобы готовый кирпич выскочил наружу, нужно было прыгнуть сверху на нужную досочку. Вот и прыгали, бывало, ребятишки. Для них игра, а для страны – кирпич. Лес в те времена не возили на машинах, его стягивали в большие плоты и отправляли по течению. И тут детский труд был необходим: лыко, которым связывали бревна, драли ребята и доставляли на биржу.
Однажды, в последнюю военную зиму, людей отправили заготовлять лес в Горевой лог. Народу там было много, со всей округи, Сима в том числе. В лютый мороз надо было пилить лес, рубить сучки, чистить от снега место около деревьев. Так Сима сначала и делала, но глядя на хиленькую девчушку с дырявыми коленками и разъехавшимися лаптями, управляющий пожалел ее и стал оставлять в бараке топить печи, мыть полы в конторе, в столовой чистить картошку. К концу зимы объем работы закончился, все ушли обратно в Саргаю, а Симу так и оставили в Горевом логу сторожить оставшееся хозяйство. Хоть и конец зимы был, а ночи еще длинные и холодные, да и жутковато было сидеть шестнадцатилетней девушке одной среди густого дремучего леса. Но деваться было некуда, ослушаться начальства было еще страшней. В один из мартовских дней случайно забрел на огонек охотник с собаками (оказался знакомый отца). Подивился он, что среди дремучего леса одну девчонку оставили, собрал нехитрые ее пожитки и привел обратно в Саргаю. Знал бы, чем его доброе дело обернется, оставил бы Серафиму там, где нашел. Дома Симу ждало разочарование: думала сестер да братишку обнимет с долгой разлуки, а оказалось: нет их уже давно – старшая сестра Анна уехала в Нижний Тагил искать работу, а Мишу и Наташу отправила родная тетка Маша в Коневский детский дом. Погоревала немного , но тут позвали ее в больницу санитаркой поработать. Радости было море. В первый же день телегу дров для больницы одна разгрузила. А на следующий день пришла ей повестка: «Явиться в суд». За самовольный уход с работы саргаинский суд назначил Серафиме Ермолаевне наказание: лишение свободы сроком на три месяца. После оглашения приговора сразу же закрыли под замок в местной конюховке. Знакомые и родные приходили просить за сироту, но закон есть закон и его надо было выполнять. Сшила из матраса крестная Маша юбку и халат для осужденной и пошла та сама своим ходом в Сажинскую тюрьму, как велел начальник. Хоть и было в Сажино здание для тюрьмы, но не готовое оно было для эксплуатации. Дежурил там один милиционер, который и пустил наказанную девушку и разрешил переночевать в кабинете на полу. На другой день привели еще несколько девок, получивших срок за хищение и растрату, и повели в Манчажскую настоящую тюрьму. Хоть срок и небольшой по тем временам дали Симе, а посидеть пришлось и в Манчаже, и в Красноуфимске, и в Свердловске, и в Камышлове. Легче всех оказалось сидеть в Свердловске, так как там ее заставляли мыть полы в столовой и иногда подкармливали остатками еды. До сих пор помнит Сима ту рыбу, которую давали тогда голодным тюремщицам. В последнем месте назначения – Камышлове – осужденные сажали капусту. Чтобы капуста лучше прижилась, ее надо было поливать из родника, который протекал неподалеку. Вот Симу и поставили в холодную родниковую воду голыми ногами для того, чтобы она подавала другим ведра с водой. Так целый день и простояла в ледяном ключе. А на следующий день не смогла встать с постели: опухли ноги от переохлаждения. Больную отправили в тюремный изолятор для лечения, положили на кровать отлеживаться и закрыли на замок. Всякие люди есть на свете, но мир не без добрых людей. Та вольнонаемная женщина, которая ухаживала и лечила больную девушку, научила Симу не говорить тюремному начальству об улучшении здоровья и продолжать находиться в изоляторе. Так и пролежала Сима в больничке до окончания своего срока заключения, до 29.06.45. О судьбе бывших заключенных не очень заботились и тогда. Выдали билет до Свердловска, дали немного денег, а дальше – дело каждого. В областном центре на вокзале в основном были солдаты: закончилась война, и служивые возвращались домой. У них и спрашивала Сима со своей подругой, как добраться до Красноуфимска. Никто на грязных девок не обращал внимания, но один военный пожалел их и пустил в свой товарный открытый вагон ободранных, полуголых девчонок. Доехали до Красноуфимска, на колонке размазали прилипшую в пути копоть и разошлись в разные стороны: одна в Уфимку, а Сима еще и не знала, куда держать путь. Как говориться «Сиротою быть – слезы лить»: родителей и дома родительского нету, старшая сестра где-то ищет лучшей доли, Миша и Наташа в детдоме. Куда бедной сиротинке деваться? Дошла Сирофима до Криулинского сельского совета, переночевала там в страхе, что заберут ее снова из-за отсутствия каких-либо документов. Рано утром тихонько открыла дверь и бегом пустилась до Стекольного к знакомым Волжаниным (когда-то сидела у них в няньках). Встретили они ее как хорошую знакомую: накормили, вымыли в бане, дали кое-какую одежду и посоветовали идти в Коневский детдом к , где жили ее родные младшие братик и сестренка. Сима так и сделала: через Савиново и Манчаж шла пешком к таким близким и родным для нее людям, думая о том, как обнимет она ненаглядные милые самые близкие существа на свете. Когда подходила к детдому, игравшие около него ребятишки, узнав, что идут к Мухачевым, побежали сообщать Мише и Наташе, что к ним приехали. Радости не было конца! Расставаться с детьми не хотелось, да и идти некуда было, поэтому попросила Сима директора детдома найти для нее мало-мальскую работу. Александр Васильевич Васильев пошел навстречу и предложил место ночной нянечки, чему Сима очень обрадовалась. Ей выдали одежду, устроили на квартиру к Тарасенковым, и стала она работать в детдоме: играть с детьми, рассказывать по ночам им сказки. Нравилось Симе такое занятие, да и дети очень полюбили добрую нянечку. Но неожиданно директора уволили с работы за халатное отношение, детдом расформировали, всех детей отправили в Манчаж. Серафима опять осталась без работы, а главное без родных. Александр Васильевич был родом из Усть-Маша. После увольнения решил он вернуться на родину и Симе предложил поехать с ним. В Усть-Маше девушка поселилась у Волковой Анастасии Петровны, а чтобы как-то прокормиться помогала Ширингиным по хозяйству за кусок хлеба.
Так получилось, что разошлись судьбы пятерых детей Мухачевых по разным дорогам. Петя погиб на фронте. Миша и Наташа жили в детдоме. Анна в то время жила в Нижнем Тагиле. Вот и решила Сима объединить распавшуюся семью. В детдоме забрала ребят вместе с их документами и втроем поехали искать сестру. Нашли ее быстро, но получилось не так, как задумала. Оказывается, на детей-то документы были, а у самой Симы нет. Судьба в который раз разделила родных: маленькие остались у Нюры, а Серафима поехала выхлопатывать себе свидетельство о рождении. Это оказалось не так-то просто. В Саргае во время войны никакой документации не велось, и ее отправили в Башкирию. Там где она родилась, никого почти уже не осталось, все разъехались, свидетелей своего пребывания в этой деревне не нашла. Старый архив сгорел, а в новом никаких сведений о ней и о ее семье не нашли. Но все-таки в сельском Совете ей выдали справку-свидетельство о рождении. Правда в графе «Имя», вместо «Серафимы», написали «Ксения» (посчитали, что Ксения – это полное имя Симы). С тех пор по документам Серафима считается Ксения Емельяновна. С этой справкой пошла Серафима по жизни дальше. Жить стала в Саргае, работала в больнице, в школе техничкой.
В 1954 году пришел в деревню Русский Усть-Маш из армии красавец парень Орлов Григорий. Все три года службы в армии думал он о девушке , с которой познакомил его Устьмашский друг Волков Вадим. Этой девушкой и была наша Серафима. Сразу же по приходу перевез он ее к себе в Усть-Маш и началась у Симы совсем другая жизнь – замужняя. Григорий до армии закончил Красноуфимский сельскохозяйственный техникум, был грамотным человеком, поэтому всю жизнь работал в начальниках. Сначала в совхозе инженером по технике безопасности, затем в Бугалыше создал с нуля сельхозхимию и стал руководить ею, а в последние перед смертью годы назначили его секретарем партийной организации совхоза «Юбилейный». При своей занятости муж мало уделял внимания своей жене, поэтому все хозяйство, престарелая мать Григория и появившиеся друг за другом дети были на плечах у Симы. За тридцать лет совместной жизни в семье было всякое: радость и горе, праздники и будни, ссоры и примирения. Родились на свет трое детей: Людмила, Игорь и Александр. В 1985 году от инфаркта умер муж Орлов Григорий Егорович, и опять Серафима осталась одна, так как к этому времени дети уже подросли и уехали из родного гнезда. Жизнь стала, хоть и одинокая, но спокойная. Новая беда пришла в дом в 2004 году. Скоропостижно в расцвете лет умирает от инсульта старший сын Игорь, а через четыре года снова горе – от несчастного случая погибает младший сын Саша.
Сейчас жизнь у Ксении Ермолаевны идет своим чередом, не стоит на месте, года в этом возрасте стремительно летят вперед. Бабе Симе идет уже 82-й год, а она по-прежнему дома все делает сама: и картошку сажает, и за пчелами ходит, и морковку выращивает. В доме у нее идеальный порядок. Было время, и козу держала, чтоб молоко парное пить. Только нет уж силы за ней беспутной бегать, да и голова стала часто кружиться. Сейчас у бабы Симы осталась дочь Людмила, есть 6 внуков и даже 4 правнука. Часто навещают ее, особенно летом. Тяжеловато одной в большом доме хозяйничать, но не может она под старость лет с родной земли сорваться. Хоть и зовет дочь к себе в Арти век доживать, только тоскливо ей без устьмашского пригорка, без соседок-подружек, без родных деревенских лиц.
Источник:
Плеханова, Л. П. Судьба труженицы бабы Симы / Л. П. Плеханова. – Текст : непосредственный // Осколки войны : литературный альманах Красноуфимского района / редколлегия : Л. В. Емельянова [и др.] ; Организационно-методический центр по культуре и народному творчеству МУ «Отдел культуры администрации МО Красноуфимский округ», - 2010. - Вып. 2. - С. 149-161.